Проблема развития и распада высших психических функций
Проблема высших психических функций является проблемой всей психологии человека. В современной психологии ещё не достаточно выделены основные теоретические принципы, на которых должна быть построена психология человека как система, и разработка проблемы высших психических функций должна иметь центральное решение для решения этой задачи.
В современной зарубежной психологии существуют два основных принципа, с точки зрения которых разрабатывается психология человека.
Первый принцип – это натуралистический, т. е. такой, который рассматривает психологию человека и его высшие психические процессы на тех же принципиальных основаниях, на которых строится учение о поведении животных. Таковым является например структурный принцип, который исходит из мысли, что в психологии человека не заключается ничего принципиально нового, что отличало бы её коренным образом от психологии животного. Весь пафос структурной теории заключается в её универсальности и всеобщей приложимости. Как известно, сами структуралисты утверждают, что структура есть изначальная форма всей жизни. Фолькет в своих экспериментах стремиться доказать, что восприятие паука подчиняется тем же структурным законам, что и восприятие человека. Такие же структурные законы получались при исследовании структуры поведения человекообразных обезьян. Все явления – от реакций паука до человеческого восприятия – оказались охваченными таким единым принципом.
Эта всеобщность структурной теории отвечает тенденции всей современной натуралистической психологии, о которой несколько иронически, но правильно выразился Тордайк, указав, что создать единую линию развития от дождевого червя до американского студента. Этому идеалу отвечает структурный принцип. Поскольку речь идёт о такой общей структурной закономерности, дождевой червь и американский студент обнаруживают структурные закономерности в полной мере. Правда, внутри этих общих структурных закономерностей в ходе эксперимента и клинического исследования приходится различать структуры «хорошие» (как их обозначают представители этой психологии) и структуры «плохие», структуры «сильные» и структуры «слабые», структуры дифференцированные и недифференцированные. Но всё это отличия количественные, принципиально же оказывается, что структурные принципы одинаково приложимы как к высшим, так и к низшим структурам. Как к человеку, так и к животному.
Несостоятельность этого принципа сказалась как в генетической так и в клинической психологии, по отношению к развитому распаду психических функций. Основатели гештальт-психологии Кёллер и Вертгаймер связывали огромные надежды со структурным принципом. Соответственно этому принципу исследования, как уже было сказано, проводились на домашней курице и на обезьяне. Но оказалось, что с точки зрения сравнительной психологии эти исследования не имеют никаких перспектив, потому что на курице Кёлер получил тоже, что и на обезьяне. В смысле общих структурных принципов, различий между домашней курицей и обезьяной он установить не смог. Когда при Кёлере в Париже был поставлен вопрос относительно человеческого восприятия, то он ответил данными, собранными на животном материале. Изложив все основные закономерности, которые были вскрыты на животных – на обезьяне и курице – он сказал, что этим законам подчинено и человеческое восприятие. Конечно это его слабое место. Больше того, он не мог отделаться от того впечатления, что животное в гораздо большей степени подчиняется закона структуры сенсорного поля, чем человек, у которого эти законы, определяют его сенсорные процессы в меньшей степени. Животное находится в зависимости от объективных данных, от освещения, расположения вещей и т.д., от относительной силы раздражителя, входящего в состав этой ситуации, проявляя здесь подчинение законам структуры больше, чем человек.
Аналогичные факты получились при попытке приложить структурный принцип к явлениям детского развития. Чем ниже спускался исследователь, тем больше получалось данных, что структурное строение психических процессов у ребёнка имеет ту же форму, как и у взрослого человека. Попытка приложить структурный принцип к объяснению развития сделал К. Коффка. Он указал, что развитие структур является «сильным» и «слабым», «хорошим» и «плохим», дифференцированным и недифференцированным, но что всё развитие альфой и омегой имеет структурность как таковую. Такая постановка проблемы развития в области сравнительной и детской психологии оказалась с точки зрения структурного принципа чрезвычайно малоплодотворной. Все высшие формы человеческого восприятия потеряли свою специфичность.

Я укажу, с какими трудностями приходится встречаться структурной психологии, когда дело касается клинических дисциплин. Я сошлюсь на работы Петцля, посвящённые агнозии в которой он устанавливает тонкое различие между низшей зрительной сферой и той высшей зрительной сферой, при страдании которой наступает агнозия. Но когда Петцль от описания переходит к анализу, то оказывается, что всё сводится к структурированию и из высших функций выступают только две – побуждающая и запрещающая. Они по выражению Щедрина, могут только «тащить и не пущать», низшие центры, но создавать новое, приносить новые элементы в деятельность высших центров оказываются не способными.
Я подробно останавливаюсь на этой стороне дела, чтобы показать что господствующая в современной психологии структурная теория оказывается неадекватной той проблеме, которая составляет основной предмет изучения человека, – проблеме высших психических процессов, ибо ответ, который даст структурная психология, заключается в том, что высшие психические функции сводятся к тем же низшим, только усложнённым и обогащённым по сравнению с низшими психическими функциями, а это не решает проблему.
Вторую линию в психологии человека представляла так называемая описательная психология, или психология как наука о духе, которая в противовес натуралистическим принципам, сводящим высшие специфически человеческие образования к закономерностям, присущим низшим образованиям, объявляет высшие психические функции образованиями чисто духовной природы, которые причинному объяснению не подлежат и не нуждаются в генетическом анализе. Эти особенности психической жизни можно понять, но не объяснить. Их можно чувствовать, но нельзя ставить в причинную зависимость от мозговых процессов, процессов эволюции и т.д. Тот тупик, в который приводит эта идеалистическая концепция, ясен без дальнейших пояснений.
Я нарисовал эти группы взглядов схематично, но в основном, мне представляется правильной эта картина состояния психологии человека в зарубежной науке нашего времени. Если её резюмировать, то получится такое впечатление: не смотря на огромный материал, полученный при изучении человека, с теоретической точки зрения психология не только не оформилась хотя бы в качестве ростка подлинной науки, но, наоборот, это представляется совершенно исключительным до тех пор, пока психологи будут идти по этим двум основным направлениям: спиритуалистическому, с одной стороны, и натуралистическому, с другой.
Сейчас я хотел бы перейти к содержанию основных положений и фактов, характеризующих развитие и распад высших психических функций. Мне кажется что наиболее важным, для самой постановки этой проблемы является правильное понимание природы высшей психической функции. Можно было бы думать, что разбирая вопрос, о высших психических функциях нужно начать с того, чтобы дать ясное определение высших психических функций и указать, какие критерии позволяют отделить их от элементарных функций. Но мне представляется, что точное определение не принадлежит у начальному моменту научного знания. Я думаю, что смогу ограничится в начале лишь эмпирическим и эвристическим определениями.
Высшие психические функции развились как высшие формы деятельности, которые имеют ряд отличий от элементарных форм соответствующей деятельности. Так можно говорить о произвольном внимании в отличие от непроизвольного внимания, о логической памяти в отличии от механической памяти, об общем представлении в отличии от частных представлений, о творческом воображении в отличии от воспроизводящего воображения, о волевом действии в отличии от действия непроизвольного, о простых аффективных процессах в отличие от сложных форм эмоциональных процессов.
Центральным для выяснения природы высших психических функций, их развития и распада является одно положение, которое становится ясным, если сопоставить сравнительную психологию с психологией человека. В сравнительной психологии было давно введено понятие, которое получило своё развитие в последнее десятилетие, в частности, в работах покойного Вагнера, – это понятие эволюции по чистым или смешанным линиям. Изучая развитие тех или иных психических функций в животном мире, исследователи стали различать появление новой функции по чистым линиям (появление нового инстинкта, разновидности инстинкта, который оставляет в основном неизменной всю прежде сложившуюся систему функций) и развитие функции по смешанным линиям, когда происходит не столько появление нового, сколько изменяется структура всей прежде сложившейся психологической системы животного. Как показывают исследования из области сравнительной психологии, основным законом эволюции животного мира является закон психического развития по чистым линиям, развитие по смешанным линиям является, скорее исключением, чем правилом, и представлено в области животного развития незначительно.
Надо сказать, что недоучёт этого закона объясняет целый ряд ошибок, которые допускали психологи, работая с животными, в частности ошибку Кёлера, который допускал проявление человекоподобного интеллекта и применение орудий у обезьян. Он не учил, что если сравнить отдельную операцию у человека, и у обезьяны, то сходство получается большое, но если сравнить, всю структуру поведения животного и место которое она занимает в сознании животного, то как указывали Коффка Гельб и другие авторы которые подвергли критике основные кёлеровские положения (Гильём и Мейерсон) применение орудий у человека и у обезьяны резко отличается друг от друга. Орудие по-настоящему существует для животного только в момент выполнения данной операции; вещь вне определённой ситуации для животного не существует. Наиболее сложные формы его поведения являются результатом развития функций «по чистым линиям».
Для человеческого сознания и его развития, как показывают исследования человека и его высших психических функций действительно обратное положение. На первом плане развития высших психических функций стоит не только развитие каждой психической функции («развитие по чистой линии») сколько изменение межфункциональных связей, изменение господствующей взаимосвязи психической деятельности ребёнка на каждой возрастной ступени.
Нужно понять, что сознание не складывается из суммы развития отдельных функций, а наоборот, каждая отдельная функция развивается в зависимости от развития сознания как целого. Развитие сознания в целом заключается в изменении соотношения между отдельными частями и видами деятельности, в изменении соотношения между целыми частями. Это изменение функциональных связей и соотношений выступает на первый план и позволяет приблизиться к разрешению основной проблемы.
Я приведу только один пример. Если обратиться к исследованию психических функций ребёнка раннего возраста – между годом и тремя, то можно увидеть, что здесь психология наталкивалась на ряд трудностей. Трудно сравнить память ребёнка этого возраста, его мышление и внимание с памятью, мышление и внимание с памятью, мышлением и вниманием ребёнка старшего возраста, и эта трудность упирается в тот факт, что мы сталкиваемся с особой системой функциональных соотношений, с особой системой сознания, в которой доминирующей функцией является восприятие, а все остальные функции действуют не иначе, как в результате восприятия, так и через него. Кто не знает что память ребёнка этого возраста проявляется главным образом в опознавании, так как ребёнок вспоминает только связи с тем, что воспринимает сейчас. Мышление ребёнка этого возраста совершается не иначе, как в акте восприятия. Оно может быть направлено на то, что сейчас находится в сфере восприятия, нам надо было применить усилие и сделать это чрезвычайно трудно.
Что же существенно для памяти, для мышления ребёнка между годом и тремя. Существенным является не только развитие памяти и мышления, но и тот факт что, все эти функции абсолютно не самостоятельны, недифференцированные и находятся в непосредственной зависимости от восприятия, действуют не иначе как в системе восприятия. Исследования показывают, что построение высших психических функций есть процесс образования психологических систем. Иначе говоря, в ходе детского развития изменяется внутренняя структура сознания в целом. Меняются соотношения отдельных функций и отдельных видов деятельности, на основании чего возникают новые динамические системы, интегрирующие целый ряд отдельных видов и элементов психической деятельности ребёнка.
Если верно, что в ходе детского развития отношения между функциями меняются, то именно в процессе изменения этих межфункциональных отношений и происходит такая интеграция отдельных элементарных функций и происходит такая интеграция отдельных элементарных функций, которая приводит к образованию высшей психической функции, становящейся на место низших психических функций. Тут мы имеем дело с различными видами деятельности. Исследования показали, что все высшие психические функции – логическая память, произвольное внимание, мышление – имеют общую психическую основу, так что мы в такой же мере вправе, говорить о произвольной памяти, в какой мы говорим о произвольном внимании: мы могли бы с полным правом назвать последнее логическим вниманием, как называем его произвольным. Исследования показали что существует высокая корреляция между произвольной памятью и произвольным вниманием. Иначе говоря высшие психические функции – логическая память, произвольное внимание, мышление – внимание имеют общую психическую основу, так что мы в такой же мере вправе говорить о произвольной памяти, в какой мы говорим о произвольном внимании: мы могли бы с полным правом назвать последнее логическим вниманием, как называем его произвольным. Исследования показали, что существует высокая корреляция между произвольной памятью и произвольным вниманием. Иначе говоря, высшие психические функции коррелируют между собой больше, чем они коррелируют с соответствующими низшими психическими функциями. Всё это указывает на некоторую общую природу высших психических функций, на некоторый общий путь, который они проходят в своём развитии. Специальное изучение развития произвольной памяти, которое было несколько лет тому назад проведено нашими сотрудниками А.Н. Леонтьевым и Л.В. Занковым и исследования других высших психических функций показали, что этот путь интеграции и есть путь образования определённых психических систем. Во всех этих случаях мы имеем особые функциональные системы, которые не являются прямым продолжением или развитием элементарной функции, а представляют собой целое, в котором элементарные психические функции существуют как одна из инстанций, входящих в состав целого.
Центральную роль в построении высших психических функций, как показывают исследования, играет речь, и речевое мышление, те несомненно специфические человеческие функции, которые по-видимому бесспорно, должны быть отнесены к продуктам исторического развития человека.

Что вносит в сознание ребёнка первое осмысленное слово? Изучение этого вопроса, мне кажется, очень важно для понимания природы развития высших психических функций. Ассоциативная психология представляла себе, что слово связано со значением, как одна вещь, связана с другой вещью; как говорили классики ассоциативной психологии, слово напоминает значение, как пальто знакомого человека, напоминает вам хозяина. С точки зрения структурной психологии слова связаны, как одна вещь с другой, но не ассоциативно, а структурно. Иначе говоря, слово есть одна из структур в ряде других, которая, как таковая, не вносит нового modusoperandiнашего сознания. Между тем данные истории развития речи, анализ функционирования её в развитом сознании и клинические данные из области патологии речи показывают, что дело обстоит иначе, что вместе со словом человека, вносится новый modusoperandi? Новый способ действия.
В чём заключается это новое? В своё время наши скромные экспериментальные исследования привели к выводу, что с психологической стороны самым существенным для слова является обобщение, тот факт, сто всякое значение слова обозначает не единичный предмет, а группу вещей. Изучение ранних форм этих общений или детских слов привело к выводу, о котором можно сказать, что он начинает входить в современное учение о речи и мышлении. Этот вывод заключается в том, что значение детских слов развивается, что ребёнок в начале развития речи обобщает вещь в слово иначе, чем взрослые, Наши ступени развития значений детских слов показывают различные типы, различные способы обобщений. Вместе с внесением обобщений, мне кажется, вносится и новый принцип в деятельность сознания. Я думаю, что в этом случае психологи всецело опираются на то положение, что диалектическим скачком является не только переход от неживой материи к живой; диалектическим скачком является и переход от ощущения к мышлению. Это значит, что хотя сознание всегда отражает действительность не одним единственным способом, а по-разному. Этот обобщённый способ отражения действительности есть, я думаю, специфически человеческий способ мышления.
Мне позволяют так думать три группы фактов. Первая группа фактов заключается в следующем. Все знают, что основным для человеческого сознания является его социальный характер. Психическая жизнь не является замкнутой монадой, которая не имеет входа и выхода. Все знают, что непосредственно общения душ быть не может, что общаемся мы с помощью речи, с помощью соответствующих знаков. Однако важно, что общаться можно не только с помощью знаков, но и с помощью обобщённых знаков. Если знак не обобщён, то он имеет смысл только для меня, имеет смысл только единичного факта. Для примера я возьму факты, на которые указал американский исследователь Эдвард Сэпир. Кто-то должен передать другому, например, что ему холодно. Как это показать? Я могу начать дрожать, вы увидите, что мне холодно. Я могу сделать так, чтобы вам было холодно, и показать этим, что мне холодно. Но для человеческого общения характерно обобщение и передача в словах того или иного состояния. Когда я говорю «холодно», то я делаю обобщение, связанное с переживанием. Следовательно, вопрос о том, существуют ли непосредственная связь между обобщением и обобщением, заслуживает самого серьёзного внимания.
В результате целого ряда исследований в психологии была поставлена проблема (в своё время она была поставлена Пиаже), которая, однако, оставалась теоретически темной, – проблема понимания ребёнком ребёнка, понимания ребёнком взрослого, понимания ребёнком взрослого, понимания детьми разных возрастов друг друга. Нам удалось установить, что понимание в смысле глубины и адекватности, в смысле сферы возможного понимания, т.е. процессы обобщения всегда обнаруживают строгое закономерное соответствие уровню развития детского общения. Развитие общения и обобщения идёт рука об руку. Это первая группа фактов, которые позволяют думать что обобщённый способ отражений действительности в сознании, который вносится словом в деятельность мозга, есть другая сторона того факта, что сознание человека есть сознание социальное, сознание, формирующееся в обращении.
Другая группа фактов, которая позволяет так думать, относится к области клинических наблюдений.
Если обобщить то, что известно из изучения распада обобщений, из области патологии смысловой стороны речи, то можно сказать, что при этих страданиях мы не имеем более или менее общее страдание всех специфических сторон человеческих функций. Все они страдают, когда мы имеем патологические изменения в области обобщений, ва области изменения значений слова. Я постараюсь дальше, говоря об исследованиях афазии, указать на конкретные примеры, относящиеся к этой области.
Монаков в одной из своих последних статей обратил внимание на специфические нарушения произвольного внимания, которые обнаруживает афазию, и, указывая проблему, но не разрешая её, он говорит, почему такая высшая психическая функция, как произвольное внимание, казалось бы не связанная с речью, как таковой, во всех типических случаях афазии оказывается резко нарушенной. Это показывает связь, существующую между распадом обобщений и всей психической деятельностью, сохранностью представлений, сохранностью всех высших психических функций в целом.
Перейду к проблеме распада высших психических функций, которую я сегодня хотел изложить в аспекте проблемы локализации высших психических функций.
Проблема локализации в конечном счёте есть проблема структурных единиц в деятельности мозга. Для неё не может остаться безразличной общая концепция, исходя из которой она пытается решать свои основные вопросы. Во время ассоциативной психологии существовало учение, которое локализовало отдельные представления в отдельных центрах. Структурное учение в психологии заставило учение о локализации отказаться от локализации отдельных представлений. Известно, что структурное учение проложило иные пути для решения вопроса об отношении функций к мозгу. Всё это говорит о том, что всякое психологическое учение с необходимостью требует своего продвижения в области проблемы локализации и с этой точки зрения данные психологического эксперимента должны быть сопоставлены с данными клиники в широком смысле этого слова.
Современное локализационное учение справилось только с одной задачей, которая стояла перед ним. С помощью структурного принципа оно пыталось преодолеть свои прежние ложные представления. Структурный принцип оказался положительным лишь для преодоления этих дефектов в учении о локализации. Ведь типичные построения современных локализационных учений не идут дальше положения о наличии двух функциональных моментов в работе мозговых центров – так называемых специфических и неспецифических функций мозга. Наиболее чётко развил это учение Лешли.
С точки зрения Лешли, каждая область коры обладает специфической функцией, примеры, которых он проследил при анализе дифференцированных оптических структур мозговой коры. Но эти же зоны имеют и неспецифические функции. С участием этих зон связано не только формирование зрительных навыков, но и тех навыков, которые никакого отношения к оптическим не имеют. Отсюда Лешли делает вывод, что каждому центру присущи две функции: специфическая функция, с одной стороны, и неспецифическая функция, связанная со всей массой мозга, с другой стороны. В отношении специфической функции, согласно учению Лешли, каждый центр является незаменимым. При большом его поражении или травме специфическая функция выпадает. Но в отношении неспецифических функций каждый участок коры является эквивалентом другому участку коры.
Учение Гольдштейна о мозговой локализации имеет аналогичные черты, являясь только более тонким по своему содержанию. С точки зрения Гольдштейна, определённый центр мозга, разрушение которого клинически ведёт к выпадению или нарушению определённых функций, связан не только с функцией определённого типа, но и с образованием определённого фона для данной функции. Если он пострадал, то это имеет большое значение для мозга не только потому, что это имеет большое значение для мозга не только потому, что этот «центр» связан с известной динамической «фигурой», но и потому, что функции фона также пострадали от того, что пострадал данный центр.
Представление Гольдштейна, что каждый центр обладает специфическими функциями «фигуры» и общей функцией – «фоном», является более тонким взглядом, логически продолжающим взгляды Лешли относительно специфических функций каждого из центров.
Мне кажется, что теоретический анализ этого положения показывает, что учение о двойной функции каждого мозгового центра представляет собой соединение двух старых точек зрения. С одной стороны, мы возвращаемся к учению о специализированных центрах: мы признаём, что структура определённого рода локализована в определённых центрах. С другой стороны, функции центра оказываются диффузно эквивалентными в том отношении, что динамический «фон», в обеспечении которого данный центр участвует, локализован в мозгу как целом. Таким образом, здесь мы имеем соединение старой локализоционной точки зрения с антилокализационной точкой зрения. Но соединить эти теории не значит ещё разрешить проблему. Что такое представление приводит в области локализации к положениям, аналогичным положениям генетической психологии, пользующейся только структурным принципом, легко показать на исследованиях самого Гольдштейна и других клиницистов, пользующихся этим принципом. Гольдштейн, изучая амнестическую афазию, находит, что центральным страданием при этом является страдание категориального мышления. Но когда он дальше пытается установить, какой механизм лежит в основе нарушения категориального мышления, он снова приходит к «фигуре» и «фону». Оказывается, категориальное мышление и страдает постольку, поскольку пострадала основная функция мозга – образование «фигуры» и «фона». Но образование «фигуры» и «фона» является общим в отношении всех функций и Гольдштейну, далее, ничего не остаётся другого, как возвести этот принцип в ранг общего закона. Гольдштейн защищает точку зрения, близкую той, которую выдвигал Вернике и которая вызвала справедливую критику. Вернике выдвигал ту мысль, что высшие психические функции в отношении связи с мозгом построены так же, непсихические функции, и этот вывод Вернике, по мнению Гольдштейна, нужно сохранить. Его исходной точкой и в учении о локализации является положение, что принцип «фигуры» и фона для всякого действия центральной нервной системы одинаков; он одинаково проявляется как при нарушении коленного рефлекса, так и при нарушении категориального мышления. Иначе говоря, этот принцип может характеризовать как элементарные, так и высшие формы формы деятельности. Создаётся единая система, согласно которой может быть истолковано и объяснено любое поражение центральной нервной системы: расстройство чувствительности, расстройство двигательных центров, общее снижение сознания, нарушение категориального мышления и т.д. Соотношение «фигуры» и «фона» становится универсальным объясняющим принципом, равно приложным и к их локализации. Высшие психические функции оказываются не только одинаковыми с элементарными психическими функциями по своему строению, но оказываются одинаковыми и по их локализации в коре головного мозга, в отношении которой они не отличаются даже от непсихических функций.
Мне кажется, что все эти трудности проистекают из отсутствия в современной психологии адекватного психологического анализа высших психических функций. В структурной психологии анализ приводит к общему принципу структуры, который охватывает как высшие, так и низшие психические функции и оказывается одинаково приложимым к обеим. Этим доказывается, что различного рода нарушения, по существу, одинаковы. Мне представляется, что в силу неадекватного состояния психологического анализа в глубокий тупик заходят даже лучшие исследователи одни из которых сползают к чистому спиритуализму, другие же – к грубому натурализму. Примеры этого мы встречаем в работах Ван-ВеркомаХэда и других исследователей. Многие из них именно в результате такой ложной позиции начинают повторять положения Бергсона, который относится к мозгу как к средству для проявления духа, и вступают тем самым в резкие противоречия с научным материалистическим подходом к проблеме.
Мне кажется, что в такой же степени, как проблема психического развития упирается в необходимость идти дальше общего структурного принципа, она упирается в недостаточность указания на «целостный» характер психической жизни, одинаково приложимый к пауку и к человеку, и в учении о локализации.
Мне кажется, что те огромные материалы, которыми мы располагаем в области клинического исследования, дают клиницистам и психологам возможность выдвинуть два положения, существенно отличные от основных представлений современного учения о локализации.
С одной стороны, мы глубоко уверены в специфическом характере рада мозговых структур и в специфическом отношении высших психических функцийк ряду систем мозговой коры; этот тезис направлен против учения Лешли и Гольдштейна. С другой стороны, мы не можем согласиться и с тем, что неспецифическая функция каждого центра является эквивалентной для всех участников мозга. Представленная здесь концепция о строении высших психических функций исключает представление о гомогенной эквивалентной организации деятельности нашей коры, при которой только количество массы определяет характер и степень поражения высшего психического процесса. Я лишён возможности осветить здесь эту проблему сколько нибудь полно и остановлюсь лишь на одной стороне, которую я считаю принципиально важной. Дело идёт о положении, которое сложилось в течение ряда лет при изучении детей с церебральными дефектами, с оной стороны, и при соответствующих расстройств у взрослых – с другой.
Когда изучаешь ребёнка и взрослого с определёнными церебральными расстройствами, то бросается в глаза, что страдание от этих дефектов в детском возрасте даёт совершенно иную картину, иные последствия, чем страдания, которые возникают при поражении того же участка в зрелом, развитом мозгу.
Возьму самый простой пример из области, с которой я сталкивался в последнее время, – из области агнозии. Как известно оптическая агнозия у взрослых в чистом виде, например, в случаях, описанных Гольдштейном, Петцлем, выражается в том, что определённым образом страдает одна функция – функция узнавания предметов; больной видит, но не знает, какой предмет находится перед его глазами, и принуждён лишь угадывать его. Он не видит, пятачок это или часы; иной раз он скажет, что это часы, другой раз – что это пятачок; 40% определений у него правильны, 60% – не правильны. И у ребёнка с врождённой агнозией также страдает прежде всего функция определения предметов, ребёнок не узнаёт в разных ситуациях одних и тех же вещей.
Но если мы обратимся к последствиям, какие возникают с том и другом случае, то они будут диаметрально противоположны.
Что происходит у больного агнозией? Присутствующие клиницисты не откажутся подтвердить, что происходит следующее: непосредственно и грубым образом страдает функция предметного восприятия и тем самым страдает функция зрительной сферы. Грубо говоря, при поражении зрительной сферы страдает оптический гнозис, страдает функция оптического восприятия. На этом настаивает Гольдштейн, об этом говорит Петцль, и всякий, кто работал экспериментально с агностиками, может убедится в правильности того положения, которое было здесь высказано. Но страдают ли здесь высшие понятия? Может ли больной рассуждать о предметах, которые он не узнаёт? Да, он сохраняет способность такого рассуждения. Клицинисты могут подтвердить, что понятия о предметах у него нарушены. Я занимался исследованием понятий таких больных о предметах, которые они не узнают, и смог установить, что эти понятия у них сохранено здесь в гораздо большей степени, чем восприятие, и при отсутствии деменции понятие о предметах может даже выступить как основное средство компенсации дефекта. Когда агностики не видят, что это часы, то они прибегают к помощи более сложных механизмов. Они поступают, как следователи: по известным признакам они начинают догадываться и, проделав сложную работу мысли, приходят к тому, что это – часы. Мне достаточно сослаться на работу Гольдштейна, чтобы показать, что больной настолько владел своим восприятием, что узнавал квадрат, обводя глазами все четыре стороны его; такой больной передвигался по Берлину и служил в течении 15 лет, сохранив все возможности практической жизни и передвижения в трамвае и на улице только благодаря тому, что сохранная интерпретация признаков указывала ему, что это за номер трамвая, как нужно пойти, чтобы попасть туда-то. Для взрослых агностиков основным правилом является нарушение работы оптических центров, низших по отношению к нарушенному, которые и берут на себя компенсаторные функции в случаях агнозий.
Надо сказать, что в детских случаях дело обстоит совсем не так. Мы встречаем детей с врождёнными афазиями, сенсорными и моторными, но не встречается почему-то детей с врождёнными агнозиями. До последнего времени не было таких случаев. А когда мы научились их распознавать, то они стали не так редки. Почему же у детей не распознавалось это заболевание? Потому, что ребёнок с врождённой агнозией остаётся почти всегда идиотом. У него не только страдает зрение, но почти всегда недоразвитая речь, несмотря на то, что всегда сенсомоторные возможности развития речи остаются сохранными. Если обратить внимание на это, то бросается в глаза следующая закономерность. При страдании одного и того же участка или центра у взрослого больше страдает нижележащий, чем вышележащий центр. В случае агнозии у взрослого мы имеем больше расстройства простого зрения, чем мысленного понятия о предметах. У ребёнка же при аналогичном поражении центра высший центр страдает больше, чем низший. Взаимная зависимость отдельных центров оказывается в том и другом случае обратной.
Всё это можно объяснить и с теоретической точки зрения. Трудно ожидать иного соотношения по сравнению с тем, что мы наблюдаем. Известен закон о переходе функции вверх. Известно, что в первые месяцы жизни ребёнка мы можем наблюдать, самостоятельное функционирование тех центров, которые у взрослого функционируют самостоятельно только в патологическом состоянии. Переход функции вверх означает, что устанавливается известная зависимость низшего центра от высшего. У ребёнка без развития восприятия не может развиться речь, потому что в нормальном функционировании восприятия мы имеем предпосылку для того, чтобы нормально развивались высшие системы.
Сошлись на один вопрос, которым я всегда интересовался: существует ли центральная врождённая слепота? Центральная глухота существует. Алексия, агнозия существуют. Как можно допустить по теории вероятности, что не было случаев эмбрионального недоразвития оптических центров? В литературе, с которой я ознакомился по этому вопросу, есть только одно указание, что слепые с врождённой центральной слепотой обыкновенно бывают идиотами. Поражение затылочных долей, поражение зрительных центров у взрослого человека даёт только «душевную слепоту». Гольдштейн посвящает специальные работы выяснению того, какие последствия имеет поражение затылочных долей у взрослых, и констатирует, что в случаях поражения затылочных и теменных долей высшие функции – мышление и речь – мало задеваются. Кто не видел центральной слепоты, как описывают её, например, Петцль и др., как элементарного страдания, при котором сохраняются высшие психические функции? В этих случаях страдает только низший центр, поражение корковой оптической зоны у взрослого – относительно лёгкое страдание. Если же мы имеем такое поражение у маленького ребёнка, то этот ребёнок остаётся идиотом, а взрослый с такой же слепотой почти сохраняет свои высшие функции. Мне кажется, что этот факт объясняется указанными зависимостями. Значит, как показал Гольдштейн, у взрослого специфическое поражение зрительного восприятия сказывается на других функциях, но только в одном определённом отношении, а именно на образовании симультанных структур. Всё остальное остаётся. Поэтому больной Гольдштейна воспринимает квадрат так, как мы воспринимаем сложную систему чисел.
Представьте теперь ребёнка, у которого никаких симулятивных структур возникнуть не может. Это будет человек, который не умеет установить пространственные отношения. Такой ребёнок по необходимости должен остаться идиотом.
Я мог бы привести ещё ряд данных из области других страданий, но в оставшиеся несколько минут я хотел бы сделать выводы из того, что я сказал.
Имеет ли то, что я сейчас изложил, какое-нибудь отношение к учению о двух функциях центров? Мне кажется, имеет непосредственное отношение. Оказывается, что, кроме специфического страдания, которое возникает ещё страдание в отношении не специфических функций, не непосредственно связанных с этими зонами. Спрашивается, одинаково или нет страдают специфические и не специфические функции при страдании какого-либо центра? Когда ребёнок родился с центральной слепотой, а взрослый лишь приобрёл поражение, приведшее к центральной слепоте, специфические функции пострадали одинаково, а не специфические пострадали совершенно разно. Во всяком случае, в развитии и распаде мы можем иметь обратные явления в отношениях одного центра к другому, обратные отдалённые последствия поражения. Понятно, что этим исключается всякое представление, что центр связан лишь неспецифически с остальными функциями, что поражение определённого центра не даёт эквивалентного эффекта в отношении к другим центрам. Мы видим, что оно имеет специфическое отношение к определённым центрам, и это отношение устанавливается в ходе развития, и так как эти отношения устанавливаются в ходе развития, то оказывается, что и страдания, возникающие при поражении соответствующего центра, могут иметь неодинаковый характер. Из этого также ясно, что учение о специфических функциях каждого центра является несостоятельным. Если бы каждый из центров выполнял определённые функции сам по себе и для каждой высшей психической функции не требовалась бы сложная дифференцированная объединённая деятельность целой системы центров, то при страдании одного центра никогда не могло бы возникнуть такого положения, что остальные центры страдали бы определённым специфическим образом, а всегда было бы так, что при страдании определённых центров все центры страдали бы одинаково.
Несколько оставшихся минут я хочу посвятить очень кратким заключительным словам.
Мне кажется, что проблема локализации, как общее русло, вбирает в себя и то, что связано с изучением развития высших психических функций, и то, что связано с изучением их распада; это позволяет поставить проблему, которая имеет большое значение, – проблему хроногенной локализации. Эта проблема, выдвинутая ещё Монаковым, ни в какой степени не может быть решена в отношении высших психических функций так, как это делает Монаков, по той простой причине, что он в последних своих работах становится целиком на точку зрения инстинктивной основы всякой психической деятельности, в том числе и высших психических функций. Для Монакова агнозия есть болезнь инстинкта. Уже по одному этому понятно, что его конкретная интерпретацияпроблемы высших психических функций не отвечает ни задаче создания системы адекватного анализа поражённой функции, ни проблеме локализации высших психических функций в новых областях мозга. Но само по себе представление, что локализация высших психических функций не может быть понята иначе, как хроногенная, что она есть результат исторического развития и, сложившись определённым образом, действуют во времени и что это исключает возможность выводить сложный процесс из одного только участка, – эта идея остаётся правильной. Но, мне кажется, её нужно дополнить следующим соображением. Имеется много оснований допустить, что человеческий мозг обладает новыми локализационными принципами по сравнению с мозгом животных. Положение, которое выдвигает Лешли, заключающееся втом, что в основном организация психической деятельности крысы аналогична организации высших психических функций человека, является ложным. Нельзя допустить, что возникновение специфически человеческих функций представляет собой просто появление новых функций в ряду тех, которые существовали ещё дочеловеческом мозгу. Нельзя представить себе, что новые функции в отношении локализации и сложности связи с мозговыми участками имеют такое же построение, такую же организацию целого и части, как, например, функция коленного рефлекса. Поэтому есть все основания думать, что плодотворная сфера для исследования как раз лежит в области тех специфических, очень сложных динамических отношений, которые позволяют составить хотя бы самые грубые представления о действительной сложности и своеобразии высших психических функций. Если здесь мы не можем ещё дать окончательного решения, то это не должно нас смущать, потому что проблема эта величайшей сложности. Но тот огромный материал, который мы имеем, целый ряд зависимостей и примеров, которые я привёл и которые можно было бы ещё и умножить, показывают, в каком направлении следует двигаться. Во всяком случае, мне кажется, плодотворным допущение, что человеческий мозг обладает новыми локализационными принципами по сравнению с теми, с которыми мы встречаемся в мозгу животных и которые позволили ему стать органом человеческого сознания – мозгом человека.
(из собраний сочинений Л. С. Выготского)
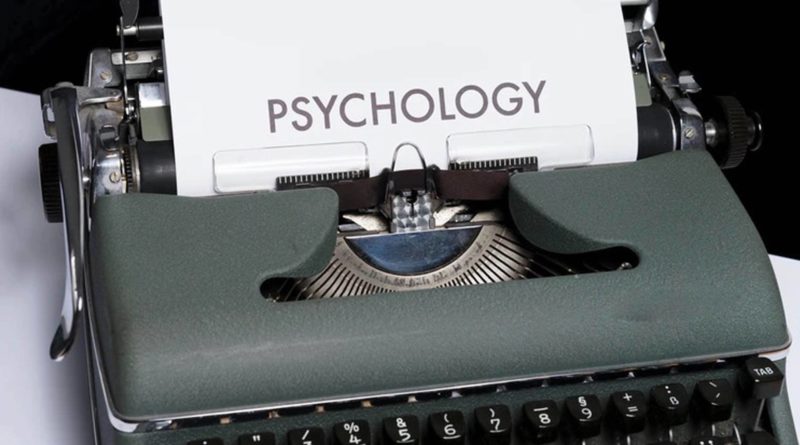



Ваш веб ресурс подсобляет сконцентрировать вечером полную нашу семью вкупе. В это время я всякий раз вспоминаю о Вас с благодарностью